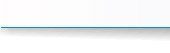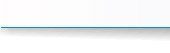Ален
Монтандон
Гостеприимство:
этнографическая мечта?
(пер. с фр. Е. Гальцовой)
www.magazines.russ.ru
Присутствующая во всем творчестве Измаила
Кадаре тема гостеприимства отсылает к архаическому субстрату: благодаря
знаменитому “Кануну” и разнообразным пословицам (“Дом албанца — это дом
Бога и гостя” — “Разрушенный апрель”, IV, 219) албанец-горец предстает
как человек в высшей степени гостеприимный. Роман “Разрушенный апрель”
— это образцовый рассказ о встрече албанца с Северных гор и столичного
жителя, горожан (относительно) современного мира и обитателей горного
плато, которые живут в мире, не подчиняющемся администрации Тираны, и
продолжают следовать законам “Кануна”.
Писатель Бессиан Вольпси и его молодая жена Диана отправляются в свадебное
путешествие на север страны, покинув привычные светско-артистические круги
Тираны ради экзотического мира эпопеи и легенд. “Друзья завидовали ему
и говорили: “Ты сбежишь из реальности и попадешь в мир легенд, настоящей
эпопеи, которую редко встретишь в нашем мире”. Потом они вспоминали о
феях и ореадах, о рапсодах, о последних в мире гомеровских гимнах и о
страшном, но величественном “Кануне”” [13]. Это захватывающее и необычное
предприятие, кажется, преследует некую цель, не высказанную самим писателем
Бессианом. Конечно, он хочет удостовериться в реальности нравов страны,
о которой ему известно только по книгам: путешествие писателя к истокам
истины, совершаемое с желанием сопоставить ностальгию этнографа с глубинной
реальностью жизни. “Диана думала, что ее муж решился на это странное путешествие
не столько для того, чтобы показать ей достопримечательности Севера, сколько
для того, чтобы проверить нечто в себе самом” [14]. Персонажи оказываются
в среде, которая кажется им архаичной, пугающе древней, и именно это их
так очаровывает.
“Разрушенный апрель” представляет собой сюжетную развертку “Кануна” —
так называется свод клановых обычаев албанцев [15]. “Все напечатанное
в книгах Марк Укасьерр считал лишь жалким трупом того, что передавалось
из уст в уста”[16]. Именно устная форма и является основополагающей, обеспечивая
вечность, силу закона, которой нет у письма.
“Канун” — это сборник статей, в которых с обескураживающей тщательностью
сформулирован кодекс чести и ритуал гостеприимства. В центре “Кануна”
стоит “беса” — ненарушимое, священное слово чести, которое обязывает к
проявлению гостеприимства. Тот, кто принимает гостя, отвечает за него
своим именем, своей репутацией и репутацией своей семьи. Система “кровь
за кровь” работает как механизм — фатально, абсурдно и грандиозно точный.
““Канун” рассчитывает хладнокровно” [17]. ““Канун” продумал все” [18].
Он определяет все жесты и все действия: как объявить о себе во дворе дома,
в какую сторону обращено лицо гостя, убитого на границе деревни; запрет
шептаться или говорить на ушко в гостевой комнате, запрет приподнимать
крышку кастрюли и т.д. ““Канун” тотален, в нем трактуются все сферы экономической
и нравственной жизни” [19]. Зачаровывающе строгая система “Кануна” не
исключает неясности некоторых мест. Так, Али Бинак — один из многочисленных
экзегетов “Кануна” — бесконечно путешествует по стране и толкует “Канун”,
разрешая конфликты. Фактически речь идет о том, чтобы применять закон
в частных, нередко деликатных, сложных и непредвиденных случаях. Но сама
эта неясность в отношении конкретного поступка тоже оказывается в рамках
общего закона. Конечно, “все это было смутно и двусмысленно, как и многие
вещи в “Кануне”” [20].
С другой стороны, точно так же очевидно, что на практике правила “Кануна”
могут нарушаться, несмотря на строгие наказания. Нарушения правил гостеприимства
подвергались суровой и публичной каре: за это сжигали дома, вырывали угловые
камни и т.д. Но благодаря своей верховной власти подобная система несла
в себе идею абсолютного порядка.
Позиция Кадаре сложна и включает в себя много нюансов. Он дает слово тем,
кто критикует систему, которая может показаться абсурдной (из-за вендетты
мужчины должны жить взаперти в башнях). В “Вендеттологии” — статье, написанной
то ли самим Бессианом Вольпси, то ли близким ему человеком, — о кровной
мести говорится как о коммерческих сделках (“Ты говорил об этих вещах,
словно речь идет о банковских операциях”), как о настоящей индустрии крови,
о крови-товаре; механизм гостеприимства и вендетты переживает деградацию,
извращается и становится не грандиозным и возвышенным элементом албанской
жизни, а вульгарным “капиталистическим предприятием, основанным на прибыли”
[21]. Кадаре пишет о “настоящей конституции смерти”, но это монументальная
конституция, которой албанцы должны гордиться, ибо “это не только конституция,
но колоссальный миф” [22].
В частности, ясно, какой трансцендентной нагрузкой обладает кодекс гостеприимства.
“Дом албанца — это дом Бога и гостя. Прежде чем стать домом для своего
хозяина, он должен быть домом для гостя. Гость — высшая этическая категория,
важнее кровных уз”. Гостю присущ ужасный, абсурдный, фатальный облик “чудесного
трагического” [23]. Благодаря атмосфере суровой поэзии, окутывающей дикий
горный пейзаж, отменяются границы между мифом и реальностью [24]. Вознося
свод клановых законов до греческой трагедии, Кадаре обеспечивает Албании
глубокую культурную идентичность [25]. Убийца по имена Гжорг становится
Гамлетом гор. Сам Бессиан упоминает об Олимпе: “Разве древнегреческие
боги не являлись всегда внезапно и совершенно неожиданно? Таков и гость,
возникающий у дверей албанцев. Как и все божества, он заключает в себе
тайну и приходит прямо из царства судьбы или фатальности” [26]. Для усиления
этой картины служат ссылки на Гомера, Эсхила, Данте, Шекспира (не только
Гамлета, но и, разумеется, Макбета). Всякий житель горного плато может
стать гостем, то есть полубогом, как подробно разъясняет Кадаре:
Гость — это действительно полубог <...> и тот факт, что кто угодно
может внезапно стать гостем, не снижает, а наоборот, только усиливает
его божественный статус. То, что это божество возникает внезапно в один
из вечеров, всего лишь постучав в дверь, делает его еще более подлинным.
С того момента, как самый скромный путешественник с котомкой за плечами
постучит в твою дверь и придет к тебе в качестве гостя, он превращается
в существо необычайное — неприкосновенного суверена, законодателя, светоча
всего мира. И эта внезапность превращения как раз и является свойством
божества. <...> От нескольких ударов в дверь может зависеть жизнь
или смерть целых поколений. Вот что такое гость для албанцев-горцев [27].
Творчество Кадаре проникнуто ностальгией по абсолютному, непомерному гостеприимству,
обязывающему отца быть гостеприимным по отношению к убийце его сына. Несомненно,
поэт ощущал поэтическое величие подобных ситуаций: “Нигде в мире так не
воспевали гостеприимство и, более того, фатальное преступание закона в
таких восхитительных и волнующих поэмах” [28].
Помимо различных политических коннотаций, которые может приобретать взгляд
этнолога (националистическая эйфория, возвеличение традиций, “бесы”, культа
чести или, наоборот, прославление свободы и прогресса), Кадаре усматривает
в албанском кодексе обычаев принципы, заявленные “за много веков до Декларации
прав человека” (конечно, в этом было выступление против тогдашнего албанского
режима, но это и до сих пор продолжает удивлять!), “уважение достоинства
человека, его чести, дома и жизни” [29]; поэт с нескрываемой гордостью
возводит этот свод законов горцев на уровень мифа. Не проводя социологического
анализа текста и той местности, где он появился, Кадаре пытается вернуться
к первоистокам и показать, что албанская культура уходит корнями в глубочайшую
древность, что, вероятно, только она одна и поддерживает еще столь тесную
связь с Гомером, Эсхилом и греческими трагиками.
“Ритуалы гостеприимства, так же как и практика вендетты, были известны
у других народов, но именно у балканских народов и особенно у албанцев
эти ритуалы были чрезвычайно подробно и точно кодифицированы” [30]. Можно
заключить, вместе с Бертраном Вестфалем, что “Кадаре — это не только Прометей,
несущий огонь, но также хранитель и защитник национальной албанской идентичности
— иконы, которую следует реставрировать” [31].
Примечания:
13 KadarО IsmaХl. Avril brisО. Paris: Le Livre de
Poche. P. 65.
14 Ibid. Р. 66.
15 “Канун” возник в XV веке, его корни уходят в Средневековье.
Его разработка совпала по времени с захватом страны турками (конец XIV
века), но записан он был лишь в начале ХХ века.
16 Ibid. Р. 151.
17 Ibid. Р. 118.
18 Ibid. Р. 150.
19 Ibid. Р. 76.
20 Ibid. Р. 151.
21 Ibid. Р. 143.
22 Ibid. Р. 74—75 (““Канун” — это не только конституция
<...>, это также колоссальный миф, принявший форму конституции <...>
Подобно всем грандиозным вещам, “Канун” находится по ту сторону добра
и зла”).
23 Ibid. Р. 70.
24 Бертран Вестфаль заметил, что все творчество Кадаре,
кажется, навечно застыло между двумя равноденствиями: “Над эпопеей никогда
не светит солнце”.
25 Запись “Кануна” князем Леке Дукагжинитом тоже происходит
в эпоху поражения и необходимости создания национальной идентичности (Бертран
Вестфаль).
26 Ibid. Р. 80.
27 Ibid. Р. 80.
28 KadarО IsmaХl. Eschyle ou le grand perdant. Paris:
Le Livre de Poche. P. 131.
29 KadarО IsmaХl. PrОface // Nеshat Tozaj. Les Couteaux.
Paris: DenoСl. 1991. P. 12—13.
30 KadarО IsmaХl. Eschyle ou le grand perdant. P.
131.
31 KadarО IsmaХl. кuvres complПtes. Paris: Fayard.
Vol. I. 1993. P. 82.
Поддержка сайта - EduWOW!
[education_worldwide]
|