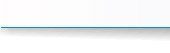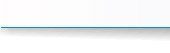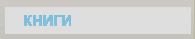   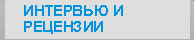  
|
|
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ИСМАИЛЯ КАДАРЭ
РУССКОЯЗЫЧНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
Опубликовано с
некоторыми сокращениями в газетах "Санкт-Петербургские Ведомости" (Санкт-Петербург)
и "Литературное обозрение" (Москва)
Вопрос: Это ведь первое ваше интервью для российских
читателей? Вы учились в Москве в Литературном институте и свободно владеете
русским языком. Доводилось ли вам в последние годы говорить по-русски?
Ответ: Да, это мое первое
интервью и не буду скрывать, что это меня сильно взволновало. Я дал сотни,
если не сказать тысячи, интервью в самых разных странах – от США до Японии,
но ни разу еще не обращался к читателям страны, где я был студентом. Так что
можно понять мои переживания.
Да, в студенческие годы я
учился в Москве, но поскольку возможности общаться по-русски у меня нет,
говорю я уже с трудом. А вот читаю по-русски и понимаю хорошо. Последний раз
мне выпал случай поговорить по-русски в Северной Италии, весной прошлого
года, на церемонии вручения премии Гринцано Кавур. Там была русская
девушка-переводчица из Санкт-Петербурга. А несколькими годами раньше на двух
международных встречах писателей, в Лиссабоне и Лондоне, мне довелось
поговорить по-русски с Бродским.
В: Как вы представляли себе Москву перед тем, как
приехать в нее? Насколько представления совпали с реальностью? И что вы
ощущали, когда пришлось покинуть Москву в связи с ухудшением отношений между
СССР и Албанией?
О: Москва мне понравилась
гораздо больше по сравнению с тем, чего я ждал. Это, как мне кажется,
произошло по причине того, что советская пропаганда рисовала тот образ
Москвы, который казался ей наиболее интересным, а на самом деле был
стерильным и унылым. Многие более интимные стороны жизни большого города,
богатство духовной жизни людей, красоту ее девушек и многое другое, я смог
открыть для себя только после приезда туда. Это была Москва не такая
помпезная, но гораздо более теплая. Именно по этой Москве я позднее
испытывал ностальгию, а не по той, которую рисовала соцреалистическая
пропаганда.
Уезжал я сильно
расстроенным. Думаю, что те албанские студенты, которые учились в вашей
стране, вообще очень переживали из-за необходимости уезжать после разрыва
отношений.
Одно из моих
стихотворений, возможно, одно из лучших написанных мной лирических
стихотворений (не знаю, согласитесь ли вы со мной) называется по имени
русской девушки «Лора» (то есть Лариса). Стихотворение как раз о том времени,
когда начался конфликт, я вернулся в Тирану и не только был вынужден
расстаться с ней, но после разрыва дипломатических отношений навсегда
потерял возможность даже переписываться с ней.
В.: Хотелось бы вам снова приехать в Россию?
Испытываете ли вы чувство ностальгии по Москве?
О.: Пока возвращение в
Москву было невозможно, я испытывал просто невыносимую ностальгию. В моей
книге «Возвращение в студию» я описал часто снившийся мне сон: неожиданно я
оказывался в Москве, в студенческом общежитии. На троллейбусе номер три я
ехал на Тверской бульвар, в Литературный институт, где я учился, но
троллейбус еле полз. Потом на моем пути возникали какие-то канавы, ямы, я
никак не мог найти переход на Пушкинскую площадь. Короче говоря, настоящий
кошмар, продолжавшийся до самого пробуждения.
Позднее, после
крушения коммунизма, когда возможность поездки стала вполне реальной,
ностальгия, как это ни странно, каким-то образом ослабла. Тем не менее, я бы
с удовольствием снова посетил Россию, и особенно Москву, если бы
представилась такая возможность. Надеюсь, это произойдет.
В.: Вам что-нибудь известно о тех студентах, с
которыми вы учились вместе в Литературном институте? Поддерживаете ли вы с
ними контакты?
О.: Прошло много времени, и
я не слышал ни об одном из моих однокурсников, который стал бы известен. В
1989 году я оказался в Швеции и встретил там одну писательницу из Риги, я
спросил ее о своем однокурснике, поэте Иерониме Стульпанце. К моему большому
сожалению, она сказала, что он покончил с собой. Мы были с ним большими
друзьями и до того, как это произошло, я описал его, и даже под его
настоящим именем, в романе о моих студенческих годах в Москве.
В.: Речь идет о романе « Сумрак степных богов»?
О.: Именно о нем. Как только я вернулся в Албанию в
1960 году, ностальгия по московским студенческим годам побудила меня
написать эту вещь. Я начал писать роман в 1962 году, но с трудом смог
опубликовать его только в 1978, в сборнике «Мост с тремя арками». Мне не
хотелось привлекать к нему чрезмерное внимание, поскольку вопрос был очень
деликатный. Все, что связано с Россией, многие годы было табу. Тем более
история любви албанца и русской девушки. Но мне помогла совершенно
парадоксальная ситуация. В центре романа основное внимание уделяется
кампании против Пастернака, развязанной в 1959 году, которую мне довелось
пережить день за днем, поскольку многие события этой кампании были связаны
как раз с Литературным институтом имени Горького. В моей книге описывается
находящийся в полной изоляции писатель Пастернак, против которого советское
государство обрушило всю мощь своей оглушающей пропаганды. А вот теперь
слушайте меня внимательно: поскольку Албания официально находилась в
состоянии вражды с советским государством, я позволил себе описать это
государство самым негативным образом. Как следствие, одинокий писатель
Пастернак, хочешь не хочешь, стал положительным героем. В этом и заключается
невероятный парадокс – в стране с суровым сталинистским режимом, какой была
Албания, осуждается кампания против Пастернака. Вместе с государством я
осудил и писателей-лизоблюдов, высмеяв их догматические сочинения, их
лицемерие, соцреалистические лозунги и доносы друг на друга. Один из
персонажей даже выведен под псевдонимом «доносчик», причем по-албански я
написал это слово так, как оно произносится по-русски: « donosçik ».
Шестиэтажное здание на Бутырском Хуторе,
где жили писатели и студенты Литинститута, я описал как подобие дантовского
ада с шестью кругами. В каждом из кругов старые и молодые писатели
олицетворяли один из грехов. Так, по этажам, располагались конформисты,
догматики, и вплоть до самого последнего этажа, где жили доносчики. Вы
можете сказать мне, что я и сам жил в этом общежитии. Верно, и я тоже. Роман
написан от первого лица, и в нем я сразу рассказываю, что являюсь студентом
этого института. Более того, в одной из сцен романа одна из героинь (моя
московская подруга), от которой я скрыл, что я писатель, когда узнает
правду, с ужасом восклицает, словно разоблачая преступника: и ты тоже
писатель! И я ей отвечаю: увы, да! Более того, все еще хуже, чем ты думаешь:
я известный писатель!... Ну что ж, я был одним из обитателей этого
шестиэтажного ада. Но я-то осознавал это! Вот в чем была разница. Я это
осознавал и я описал этот ад, чтобы о нем узнал мир. И в этом было мое
преимущество.
На самом деле,
все то, на что я нападал, было и у нас в Албании. Более того, у нас все было
еще жестче. У нас Пастернака просто расстреляли бы. И вот так получилось,
что пользуясь официальной враждебностью к Советскому Союзу, я выступил с
абсолютно либеральных позиций. Албанская критика была дезориентирована и
хранила полное молчание, что мне самому представлялось весьма знаменательным.
Тем временем, после того, как эта вещь была издана на Западе, один
итальянский критик-коммунист, некий Джанроберто Скарсия, выслуживаясь перед
советским коммунизмом, заметил этот парадокс и публично меня обвинил, заявив,
что я критикую Советский Союз с «атлантистских» позиций (то есть с
крайне-западных).
Вот как оно было
в нашем мире устроено. Мало нам было своих доносчиков (donosçikët),
так еще и западные критики норовили на нас донести!
В.: Вы, конечно же, были знакомы со многими русскими
писателями и в то время, и позднее. О ком вам хотелось бы вспомнить? Какое
влияние оказала на ваше творчество русская литература?
О.: Из времен учебы в институте мне вспоминается Белла
Ахмадулина и, конечно, Евтушенко, который уже окончил институт, но часто
приходил к ней. Затем Давид Самойлов, который помог мне издать книгу.
В Ялте, в доме отдыха писателей, я познакомился и часто беседовал с
Константином Паустовским. Был там еще один драматург по фамилии Арбузов,
которого я помню не по его произведениям, а потому, что он увел жену у
Паустовского, или нет, наоборот, Паустовский у него, я уже не помню точно.
Были и другие, из которых вспоминается писатель по фамилии Ладонщиков,
оголтелый коммунист, поговаривали, что он следил за Паустовским… Еще помню,
в Риге жил Ермилов, критик, который так мне не нравился, что мне казалось, и
все остальные его ненавидят. В Париже, кроме Бродского, я встречал
Солженицына, нас издавало одно издательство – «Файар».
Раз уж мы
вспомнили «дело Пастернака», мне довелось познакомиться в Париже с Ириной
Емельяновой, дочерью возлюбленной Пастернака, она тоже училась в
Литинституте, но на другом курсе. Хорошо помню ее миндалевидные глаза,
которые часто казались мне заплаканными во время всей этой травли.
Что касается влияния русской
литературы, то понятно, что оно было весьма значительным. В юности я был
зачарован призраками Шекспира, мрачными немецкими балладами и «Адом» Данте.
Как часто бывает с подростками, реалистическая литература меня не привлекала.
Позднее, наряду с «Дон Кихотом» и античной греческой литературой я
познакомился и с русской литературой, которая во многом выправила процесс
формирования меня как писателя. «Дон Кихот» Сервантеса и русская литература
послужили своего рода противовесом. Гротеск испанского писателя и широта,
сладкозвучие русской литературы как бы уравновесили, в хорошем смысле слова,
шекспировский трагизм, не позволив мне стать мрачным писателем,
воспринимающим все только в черно-белых тонах.
В.: Насколько русская литература известна в Албании?
Изучается ли там русский язык?
О.: Классическая русская
литература известна в Албании очень хорошо. После разрыва отношений в 1960
году, когда Албания откололась от советского блока, произошло то, во что
невозможно было поверить: в одночасье исчезли советские флаги, русские песни,
советские издания и одновременно в школах было ограничено изучение русского
языка. Мы, албанцы, легко впадаем в крайности: от великой дружбы с советским
народом мы перешли к такой же великой вражде. Под враждебным натиском
устояла только классическая русская литература. Ее продолжали читать и даже
переиздавать. После падения коммунизма ситуация почти не изменилась.
Из всей русской литературы, которую я
вообще высоко ценю, для меня вершиной являются «Мертвые души» Гоголя.
Возможно, это может показаться немного субъективным, но я надеюсь, вы
поймете, почему мне нравится именно это произведение. Секрет именно в
смешении Данте и Сервантеса (насколько я помню, сюжет подарил Гоголю Пушкин
вместе с этой гениальной идеей). Путешествие Чичикова – это своего рода
поездка дьявола, собирающего души в русских степях, где полно дон Кихотов.
Это ведь настоящее чудо, не правда ли?
Русскую
литературу я знаю хорошо – от великих классиков до декадентов и
авангардистов XX века, Белого, Андреева и Сологуба,
от Мандельштама до Булгакова, но я не очень хорошо знаю современных
писателей.
В.: Знаете ли вы о том, что ваши произведения были
включены в учебную программу в петербургском (ленинградском) университете
даже в те годы, когда между нашими странами не было дипломатических
отношений, а публикация ваших романов была запрещена в Советском Союзе?
О.: Нет, я об этом не знал. Могу сказать, что меня это
очень тронуло.
Вы упомянули о том,
что мои книги были запрещены у вас. Для нас, писателей бывшего Восточного
блока, это совершенно особое воспоминание. Мы учились по запрещенным книгам.
Сначала это были книги западных авторов, тех, кого называли «буржуазными
декадентами». Потом книги наших старых писателей, считавшиеся вредными.
Затем дошла очередь и до нас, современных писателей. То у одного, то у
другого запрещали какую-нибудь книгу. У меня было четыре или пять таких.
И все это
происходило в наших собственных странах. Нас запрещали в своих странах. Но
когда нас запрещают в других странах – это и представить невозможно. Очень
немногим писателям бывшей Восточной Европы довелось быть запрещенными в
других странах. Это настолько редкое явление, что казалось, такого и быть
практически не может. В этом есть какое-то особый привкус. Я узнал от вас о
том, что мои книги были запрещены. Помимо горечи, всегда вызываемой
запрещением, я почувствовал и тот особый привкус, о котором я упоминал.
Когда писателя запрещают, для этого должна быть причина. Значит, этот
писатель кому-то опасен. Кого-то напугал. А кого он может напугать, кроме
тирании? А если он опасен для тирании, это значит, что в его произведениях
есть что-то демоническое, в хорошем смысле этого слова.
Может показаться,
что в том, что я говорю,
есть что-то извращенное,
но, как я уже сказал,
это мое первое интервью для российских читателей и мне позволительно
проявить некоторую оригинальность.
Помимо моей
собственной страны, Албании, я был запрещен еще в двух странах: в Югославии
и в Советском Союзе. В Югославии понятно почему – из-за Косово. Я был там
хорошо известен и мои книги моментально расходились. Но югославы считали
меня врагом Югославии, поскольку я был одним из тех, кто требовал
расследования военных преступлений, совершенных югославской армией по
отношению к албанцам, проживающим в Косово. Так что югославы совершенно
справедливо не любили меня.
Что касается
Советского Союза, то все было по-другому. Я учился там, когда был студентом.
Россия – это страна, где издали мою первую переведенную книгу, еще в 1960
году. Честное слово, даже не верится, что меня издали в Москве раньше, чем в
Париже, где первая моя книга вышла на десять позже, в 1970. И тем не менее,
в России, где меня издали раньше всех, мои книги были запрещены.
В.: Вы не задумывались, почему так произошло? Были
какие-то политические причины или это просто недоразумение?
О.:
Похоже, что были и политические причины (разрыв между нашими странами), но
по сути своей это было просто недоразумение. Более того, весьма драматичное
недоразумение. Мне кажется, что недоразумение это было вызвано публикацией
моего романа «Зима великого одиночества».
В этом романе описывается разрыв отношений маленькой Албании со всем
социалистическим лагерем, и в первую очередь с Россией. Этот разрыв мне, как
и большинству албанцев, казался явлением положительным, поскольку у нас
возникла иллюзия, что разрыв отношений Албании с Россией и советским блоком,
хочешь не хочешь, приведет нашу страну в Западную Европу. К несчастью, так
не произошло. Энвер Ходжа вырвал Албанию из советского блока не для того,
чтобы ее либерализовать, а для того, чтобы превратить в самое жестокое
сталинистское государство. Это было нашей трагедией.
Похоже, создалось
ошибочное впечатление, что в этом романе осуждалась Россия. На самом деле в
нем дана глобальная, приводящая в ужас картина коммунистической империи,
центром которой была советская Россия. Мрачность этого изображения объясняет
тот успех, который роман имел на Западе, где был издан в 1978 году, за
двенадцать лет до падения коммунизма. Осуждая гигантскую машину
коммунистической империи, я практически осудил и албанский коммунизм, самый
жестокий из всех. Поэтому роман, как вы, возможно, знаете, был очень плохо
встречен в Албании.
Когда после падения
коммунизма этот роман был переведен на русский язык и издан у вас,
я обрадовался, поскольку понял, что русские осознали, что направлен
он не против России, а против всего того, что русские и сами ненавидели.
В.: В 2005 году вы получили
Международную Букеровскую премию в Великобритании, одну из самых престижных
литературных премий в мире. Ваши романы печатаются в 40 странах мира. Вас
уже много лет подряд выдвигают кандидатом на Нобелевскую премию. Почему, как
вы считаете, ваши произведения до сих пор недостаточно хорошо известны в
России, ведь теперь для этого больше нет политических причин?
О.:
Возможно, это своего рода инерция,
оставшаяся со времен прохладных отношений в прошлом. Я – писатель, а
не политик, и я хочу говорить без цензуры, без оглядки на дипломатию.
Политики обычно говорят так: да, бывает, что правительства становятся
врагами, а народы все равно любят друг друга, и то же касается культуры.
Случается, конечно, и так, но обычно реальность далека от этой идиллической
картины. В некоторых случаях длительная, почти сорокалетняя враждебность,
как между маленькой Албанией и огромной Россией, оставляет свои следы.
Горько это говорить, но мне кажется, что между Россией и Албанией даже
сегодня существует определенная прохлада в отношениях. Пройдет ли она?
Надеюсь, что да. Напряженность между странами, будь то великие государства
или небольшие, это ненормально. Возможно, после установления мира на
Балканах и ослабления в результате этого вековой вражды между сербами и
албанцами изменится и восприятие России со стороны неславянских народов
балканского полуострова. Вы ведь знаете, что после сорокалетней
напряженности в албано-советских отношениях появилась новая напряженность
уже после падения коммунизма, вызванная событиями в Косово. Россия, вместе с
некоторыми своими союзниками, заняла сторону сербов, а Запад – сторону
албанцев. Именно из-за албанцев, проживающих в Косово, НАТО подвергла
Югославию бомбардировкам. Понятно, что это усилило еще сильнее привязанность
албанцев к Западу, и особенно к США. Сегодняшняя Албания, будь то
официальные власти или народ, имеет очень тесные связи с Западом и США. Но
это совершенно не означает, что дружба с одной частью мира обусловливает
вражду по отношению к другой части, как это происходило с Албанией во время
холодной войны. Я думаю, что наоборот, дружба и нормальные отношения с кем
бы то ни было помогают наладить дружбу и хорошие отношения повсеместно.
Надеюсь, что отношения моей страны с сегодняшней Россией пойдут именно в
этом правильном направлении.
В.: Думаете, литература может сыграть какую-то роль
в этом процессе?
О.:
Нисколько в этом не сомневаюсь. Мне нравится верить в
чудодейственную силу литературы. В эпоху коммунизма, когда мы все были
частью того, что называлось восточным блоком, я, осознавая, что ваша
классическая литература самая могучая по сравнению со всеми остальными
странами-союзниками, спрашивал себя: ну ладно, мы все пали так низко, но как
получилось, что русская литература позволила России докатиться до такого
состояния? Я понимал, что это наивно, но моя вера в магическую силу
литературы побеждала любую логику.
В.: Не могли бы вы немного
рассказать о вашей первой книге, изданной в Москве,
ведь это была ваша первая книга, изданная за рубежом. Я читал, что
там была некая история с предисловием.
О.: Да,
это верно.
Книгу подготовил к
изданию Давид Самойлов, выдающийся поэт и переводчик, еще в 1959 году. Но
публикация все время откладывалась. Как-то Самойлов, очень обеспокоенный,
позвал меня и сказал, что мне нужно отказаться от издания книги, поскольку
издательство «Иностранная литература» поставило условием, чтобы книга
сопровождалась предисловием Самойлова, где сборник критиковался бы за «следы
западного декадентства». (В это время Хрущев принял решение, считавшееся
либеральным: разрешалась публикация западных модернистов, при условии, что
издательство сопровождало книги предисловиями, где выражало всю глубину
своего неодобрения этих книг).
Самойлов объяснил
мне, что книге вынесен приговор: «следы
декадентства». Более того, он
даже привел примеры. Стихотворение «Мокрая
осень» начиналось со строк:
Небо бесформенно, как мозг
тупицы,
Унылый дождь заливает улицы.
Если вы заглянете в
албанский оригинал, там написано вообще «мозг идиота», что еще хуже. Он
настаивал, чтобы я отказался от издания книги, иначе подобная критика может
оказаться катастрофой для меня, начинающего поэта.
Я закричал:
«нет». Пусть он пишет что хочет,
лишь бы книга вышла. Он тоже начал кричать и
заявил, что я больной на голову. Но мою решимость нельзя было поколебать.
Подобное предисловие не только не казалось мне чем-то ужасным, я считал, что
в нем есть особая ценность! Меня ставили в один ряд с писателями, к
произведениям которых нужно было писать разъясняющие предисловия. Меня
считали настоящим зарубежным писателем! Я был уверен, что половина студентов
литинститута имени Горького только мечтать могла о подобном. Кто-то под
влиянием распространявшегося либерального духа, кто-то жаждал славы, а
кто-то, естественно, из снобизма. Не стану скрывать, что все это относилось
и ко мне самому.
И вот так Давид
Самойлов, вопреки собственной воле, написал предисловие, в котором укорял
меня за «следы западного модернизма». После этого он, вероятно, переживал
из-за этого предисловия, совершенно не соответствовавшего его убеждениям. Но
он был ни в чем не виноват. Если уж кто и был виноват, так только я сам. Я
давил на него с такой силой, что даже сказал на третий день нашей размолвки:
«Ты меня отдашь в руки какому-нибудь Ермилову, чтобы тот написал предисловие
в десять раз хуже?» Это оказалось решающим аргументом. Он смягчил
предисловие, как мог, заменив слово «декадентство» словом «модернизм», и в
таком виде книга вышла. Мне очень жаль, что пока он еще был жив, у меня не
было возможности сказать ему хотя бы два слова: Давид, не переживай по
поводу этого предисловия! Ты вел себя честно.
В.: Теперь, когда дорога для
издания ваших книг в России открыта, куда следует обращаться издательствам?
Есть ли у вас литературный агент? Ну, и в качестве последнего вопроса: что
бы вы хотели сказать российскому читателю?
О.: Мой
литературный агент, как мне говорили, самый известный в мире. Это агентство
„The Wylie Agency“ с офисами в Нью-Йорке и Лондоне.
Найти его не составит труда.
Что касается
российских читателей, то я считаю их одними из самых лучших в мире. Все
народы, начиная с моего собственного и затем народы всех стран, где я жил,
для меня, как писателя, имеют двоякую природу: они люди и одновременно
читатели. Среди своих читателей мы, писатели, словно в своем собственном
королевстве. Чем они лучше как читатели, тем они ближе к нам.
Я убежден, что мои
книги найдут понимание со стороны российского читателя. И напоследок мне
хотелось бы, чтобы вы сопроводили это интервью коротеньким рассказиком,
написанным мной в 1985 году. Рассказ называется «Смерть русской женщины».
В нем есть многое из того, о чем я только что рассказал.
Исмаиль Кадарэ
СМЕРТЬ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Нина Ф.
Москвичка. Вышла замуж в
1959 году за албанского студента. После
слов «люблю» были прогулки по парку Горького, звонки из засыпанных снегом
телефонных будок, всхлипы «ты меня не забудешь» и т.д. и т.д. , и так до:
гражданка Нина Ф. берет в мужья А.Д. Затем подписи, обмен кольцами, отъезд и
медовый месяц в Албании.
Теперь она лежит
в гробу посреди комнаты городской квартиры, за тысячи километров от своей
родины. Уже многие годы она не получала писем от родных (письма доходили
редко после разрыва отношений, а в последние годы их вообще как обрезало).
Она не знала точно, кто умер, а кто жив из ее семьи, так же как и они
никогда не узнают наверняка, действительно ли она умерла, и тем более точный
год ее смерти.
Вокруг гроба толпятся женщины и плачут на
чужом языке. Это сестры студента, уже старухи. Из-за повязанного ей на
голову цветастого платка она еще больше похожа на русскую, и от этого еще
печальнее кажутся причитания на чужом языке.
Редкую женщину
оплакивают ее свояченицы с таким надрывом. Это то, о чем не говорят вслух,
это понятно само собой. Как понятна и причина этого: в первую очередь они
оплакивают ее одиночество. И конечно, свое собственное тоже.
Справа от гроба,
за спиной у женщин, книжная полка. Среди корешков выделяются книги о разрыве
отношений с Советским Союзом, в основном политические труды вождя страны.
Между ними и телом лежащей в гробу женщины – всхлипы женщин.
Приближается
время погребения. В квартире происходит более оживленное движение, приносят
крышку гроба, с грохотом забивают в нее гвозди. Чуть погодя автобусы с
печальными людьми отъезжают в сторону западного городского кладбища.
День сырой,
дождливый. Но никто не отходит раньше
времени от ямы. Одна женщина, член руководства
местного отделения Фронта, произносит совсем короткую речь, в которой
говорит, что Нина Ф. была хорошей матерью и женой, и сознательной работницей,
и что в своей работе она всегда руководствовалась уроками Партии и ее вождя.
Ни слова о ее
национальности, которая была причиной самого большого одиночества, какое
только можно себе представить.
Прощай, Нина!
Это единственные
нормальные слова, которые произносит активистка Фронта.
Более нормальным, чем эти слова, кажется
стук комьев глины и камешков, падающих на гроб, это универсальный язык,
более понятный, чем человеческий, несмотря на то, что могила эта вырыта не в
бескрайней русской земле, а в скупой албанской почве, где и для своих-то
могил едва хватает места.
Декабрь, 1985
Кадарэ
И. Лирика : Пер. с албан. / Под ред. и с предисл. Д. Самойлова. -
М.: Иностранная литература, 1961. - 119 с.: портр. - (Соврем.
зарубежная поэзия)
|